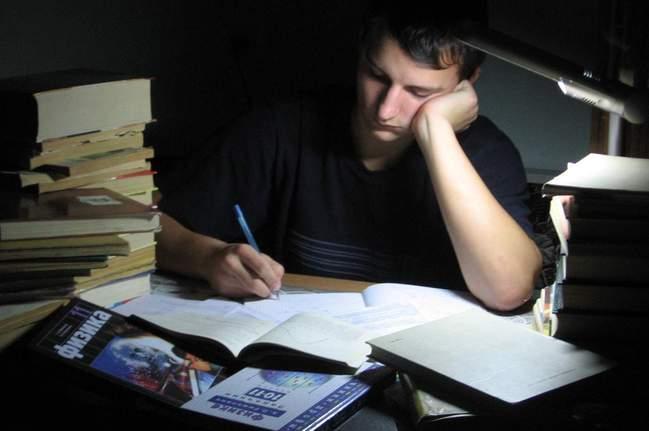Понимаю, что сегодня на сайте "перебор" не лесных новостей, но так всегда бывает в конце недели, когда выходят еженедельные газеты, в которых обычно много аналитики, интересной представителям разных профессий, в том числе, надеюсь, и лесникам. М.П.
Высшее образование в Украине: куда идем?
Петр Кралюк «Зеркало недели. Украина» №3, 27.01.2012
Мы часто с завистью смотрим на западноевропейские и американские университеты, научные учреждения. Пытаемся догнать их (или же делаем вид, что хотим это сделать). Однако плетемся в хвосте разных рейтингов высших учебных заведений. Нет наших ученых и среди нобелевских лауреатов. Да и, в конце концов, много ли знают на Западе об украинской науке?
А с другой стороны, мы нередко удивляемся, почему украинцы, оказавшись на том же Западе, достигают неплохих результатов в сфере образования и науки. Имеем также нобелевских лауреатов — выходцев из Украины. А по уровню образованности украинцы в США и Канаде принадлежат к числу лидеров среди разных этносов этих стран.
Очевидно, дело не в человеческом материале (прошу прощения за такой топорный термин). Дело в общественной организации, когда по-настоящему талантливым людям трудно пробиться, занять достойное место в социуме. Дело также в нашей системе образования, которая зачастую не дает возможности выпускникам украинских высших школ быть конкурентами на мировом уровне.
Конечно, система западного высшего образования имеет свои проблемы. Она не идеальна. В некоторых моментах уступает нашей системе. Но, вопреки этим нюансам, является более эффективной. И, думаю, в этом никто особенно не сомневается.
Западная и восточноевропейская модели высшего образования формируются по-разному, и не удивительно, что заметно отличаются друг от друга. Западная сформировалась таким образом, что ее образовательные учреждения (высшие школы) являются автономными, способны реагировать на общественные вызовы и самостоятельно меняться. Рассматриваются они как корпорации преподавателей и студентов, где каждая сторона — партнер. Задача их в том, чтобы вместе достигать результатов. Поэтому в западной модели большое внимание уделено индивидуальному общению «преподаватель—студент», и, соответственно, ставка делается на самостоятельную работу студентов. Контроль за деятельностью образовательных учреждений осуществляет не столько государство, сколько общественность. В конце концов, эти образовательные учреждения в определенном смысле можно рассматривать как элементы гражданского общества.
Если возьмем восточноевропейскую модель, которая сформировалась еще во времена царской России, а потом была закреплена и усовершенствована во времена СССР, то видим, что она строилась на других принципах. Вместо автономии университетов имеем преобразование их в государственные учреждения, подчиненные бюрократическим структурам. Это выражается даже в чисто формальном названии. Нет, например, Оксфордского государственного университета, национального университета «Сорбонна» или же государственного университета им. Марии Склодовской-Кюри. У нас же был Императорский университет им. Святого Владимира, который стал Киевским государственным университетом, а теперь превратился в университет национальный. Хотя все понимают: национальный — тот же государственный.
В восточноевропейской модели не заложен принцип партнерства «преподаватель—студент», здесь действует другой принцип — выраженной иерархичности. И ставка делается преимущественно на обучение студента, а не на сотрудничество. Поэтому на первом плане — аудиторный учебный процесс, а не самостоятельная работа.
Поскольку в этой модели высшие школы функционируют как де-факто государственные структуры, то они и контролируются преимущественно государством, а не общественностью.
Конечно, восточноевропейская модель высшей школы может демонстрировать свою эффективность — особенно в условиях тоталитарного общества. Но не больше.
Если характеризовать нынешнюю украинскую ситуацию, то она представляется очень проблемной. Развал СССР стал также ударом по существовавшей в Украине системе образования. В частности, возникли высшие учебные заведения негосударственной формы собственности, недостаточность бюджетного финансирования привела к своеобразному «разгосударствлению» государственных высших школ — теперь они значительную часть своего финансирования получают за счет платы за обучение. Процесс реальной автономизации высшей школы в Украине зашел дальше, чем это произошло в соседних Беларуси или России. Однако нужно понимать, что эта автономизация сопровождалась потерями, в частности в сфере качества образования. И это понятно, ведь в значительной степени была разрушена одна система, вместо нее не создана другая. Часто можно услышать: дескать, в России и Беларуси высшее образование лучше. В некотором смысле с этим можно согласиться. Но за счет чего имеем такое положение вещей? Прежде всего за счет того, что в России и Беларуси больше сохранились авторитарные подходы. Не говоря о том, что Россия может себе позволить лучше финансировать высшее образование, а Беларусь «точечно» вкладывает относительно значительные средства в отдельные учебные заведения.
В Украине же сложилась ситуация, когда наша образовательная система оказалась на раздорожье. Объективно уже пошел процесс сближения этой системы с западноевропейской. Этому способствует не только реальная финансовая автономизация наших высших школ, их приспособление к рыночным условиям (пусть даже деформированное), но и расширение контактов со странами Евросоюза и Северной Америки и, наконец, участие (правда, несколько формальное) в Болонском процессе. Однако, как отмечалось, сама трансформация системы порождает потери, определенную «деградацию». Соответственно, на это реагируют государственные структуры, которые у нас призваны контролировать образование, прежде всего образовательное министерство. Эффективный общественный контроль за образованием у нас так и не создан.
Можно понять деятельность государственных структур. Действуя старыми бюрократическими методами, они пытаются усилить предоставленные им контролирующие функции, по возможности централизовать образование. Примером в этом плане есть хотя бы так называемое внешнее независимое оценивание. Это американская технология. В США она носит, с одной стороны, сугубо добровольный характер (университеты этой страны могут игнорировать ВНО, дополнять его), с другой — общественный характер (ВНО в США проводят негосударственные учреждения). У нас же внешнее независимое оценивание является государственным делом, как, кстати, в России и Беларуси. Есть даже стремление закрепить ВНО законодательно. При желании подобных примеров централизовать и контролировать высшее образование, даже используя западные технологии, можно найти множество.
Очевидно, пора понять: долговременное пребывание образовательной системы на раздорожье, когда мы отошли от старой системы и не пришли к новой, западной, является ненормальным.
Есть два возможных варианта решения данной проблемы. Это — «возвращение на круги своя», возобновление авторитаризма в системе высшей школы. Для этого нужно не только максимально централизовать и бюрократизировать высшее образование, но и сократить к минимуму негосударственные учреждения (а лучше вообще их ликвидировать). Хотя такие тенденции и существуют, однако сомнительно, что это удастся воплотить, по крайней мере, в ближайшее время.
Другой вариант — осуществлять шаги в плане приближения к образовательной системе Запада. По крайней мере, кое-что в этом направлении делается. Другое дело, что часто эта работа формальная и несистемная. У нас отсутствует реальная программа интеграции образования в европейское образовательное пространство, нет также четкого понимания, как это надо делать.
По моему мнению, может быть несколько направлений такой интеграции. Во-первых, необходимо реализовать принципиальное требование Болонского процесса, предусматривающее мобильность преподавателей и студентов. Так, в странах Евросоюза уже стала традиционной практика, когда студент один семестр или даже один год учится в другом университете (желательно в другой стране!). Для этого разработаны специальные механизмы, в частности стипендиальные программы. У нас же таких механизмов нет — не только для обучения студентов за рубежом, но даже внутри страны.
Что касается мобильности преподавателей, то в странах Евросоюза приветствуют привлечение к учебному процессу зарубежных специалистов. Например, считается желательным участие иностранных ученых при защите диссертационных работ. У нас же сделать это практически невозможно, поскольку сформирована сложная процедура нострификации дипломов о высшем образовании, а особенно докторских дипломов.
Во-вторых, предоставление высшим школам реальной автономии — она должна касаться как финансовой сферы, так и учебного процесса. При этом нужно отказаться от мелочного регламентирования жизни высших школ, предоставив им возможность гибко реагировать на вызовы, существующие на рынке труда. Основным критерием оценки высшего учебного заведения должны стать не показатели, которые в основном носят количественный и формальный характер (число студентов, количество преподавателей с научными степенями, количество специализированных ученых советов и т.д.), а качество подготовки выпускников того или другого университета, их конкурентоспособность на рынке труда. При этом желательно, чтобы оценка качества образования выпускников определялась не только государственными, но и общественными учреждениями.
В-третьих, должен состояться процесс приобщения высшего образования к гражданскому обществу. У нас существуют разные общественные образовательные организации — учителей, преподавателей, студентов. Однако, как когда-то в СССР на общественные организации смотрели как на приводные ремни КПСС, так и теперь у нас на них смотрят как на приводные ремни государственных учреждений. В такой ситуации теряет смысл функционирование образовательных общественных организаций, как, например, советы ректоров или студенческие союзы. Они просто озвучивают волю образовательного министерства. В то время как на Западе общественные организации являются не только самостоятельными, но и имеют широкие права. Например, в Германии именно студенческие союзы предоставляют стипендии, определяют льготы для студентов, поселяют в общежития и даже… содержат студенческие столовые. Для нас, конечно, это выглядит как фантастика.
Понимаю, что сегодня мы не обеспечим ни мобильности преподавателей и студентов, ни полноценной автономии высших школ, ни создания действенных образовательных организаций. Однако сделать определенные шаги в этом направлении можем. Тем более что для этого есть все основания и этого требует ситуация.
http://zn.ua/EDUCATION/vysshee_obrazovanie_v_ukraine_kuda_idem-96351.html
 …А министерство лишит лицензии
…А министерство лишит лицензии
Лидия Суржик «Зеркало недели. Украина» №3, 27.01.2012
События в сфере образования и науки, предподносимые руководством профильного министерства как реформаторские действия с целью повышения качества образования, зачастую вызывают в обществе протестные настроения. Ведь методы достижения объявленной цели далеко не всегда бывают оправданны с точки зрения здравого смысла и наводят на мысль о том, что государственные чиновники просто лукавят.
На слуху ситуация с НТУУ «КПИ», где до сих пор не знают, когда же будет объявлен конкурс на должность ректора, и это косвенным образом подтверждает скрытые намерения у руководства Минобразования прибрать к рукам университетский кампус. Университету в буквальном смысле пришлось бороться за свою территорию и имущество, отбиваясь в судах от нашествия коммерческих структур. Давление на киевский политех оказывается также другим путем —министерством инициировано переутверждение устава и внесение в него изменений, существенно урезающих автономию университета.
Кампания против Национального НИИ украиноведения и всемирной истории с началом нового года только усилилась: на институт, протестующий против планов Табачника и иже с ним реформировать научное учреждение и назначить его директором своего человека, накинута финансовая удавка. Как сообщил директор института профессор П. Кононенко, официальным поводом для сокращения финансирования стало утверждение Минобразованием только трех из девяти предложенных тем. С середины января практически все научные сотрудники отправлены в отпуск за свой счет. Такое решение министерства — весьма неприятный подарок для коллектива института, который несколько дней назад отметил свое двадцатилетие.
Под прицел пристального внимания Минобразования недавно попал и Киевский славистический университет. За считанные дни до Нового года в КСУ нагрянула многочисленная комиссия для проведения внеплановой комплексной проверки. Контролеры придирчиво проверяли все стороны деятельности учебного заведения, интересовались выполнением лицензионных условий, учебно-методическим обеспечением, проводили «министерские» контрольные работы и т.п. Девять дней, пока работала комиссия, университет лихорадило, многие преподаватели до сих пор остаются под впечатлением от нескрываемо предвзятого отношения к ним некоторых членов комиссии. По чьей же команде так усердно трудились контролеры Государственной инспекции учебных заведений (ГИУЗ)? Думается, ответ очевиден. В соответствии с положением о ГИУЗ, ее председатель ежегодно отчитывается перед министром образования о выполнении планов работы.
Кстати, создание в прошлом году новой контролирующей структуры министр образования Д. Табачник прокомментировал восторженно: «Это чрезвычайное, суперрешение для образования. Впервые в Украине создана Государственная инспекция учебных заведений. Главная идея состоит в том, что этот центральный орган власти будет проверять качество образования. То есть проверять качество преподавания, применение оборудования, отношение к ученикам, уровень мастерства и даже творчества преподавателей». Как видим, диапазон возможностей у инспекторов весьма широк.
Неудивительно, что работники сферы образования восприняли создание госинспекции с тоской — и так не продохнуть от проверок, отчетов, комиссий, ну, будет еще одной больше, а толку-то?.. Карательный отряд в руках руководства министерства — так отреагировали на сообщение о создании новой инспекции многие преподаватели. И похоже, что они совершенно правы.
Сегодня не приходится ни на йоту сомневаться, что комиссия ГИУЗ, направленная в КСУ, выполняла возложенную на нее незавидную миссию — выявить как можно больше недостатков. И она со своей задачей справилась. Остальное осталось довершить другим.
За день до заседания Государственной аккредитационной комиссии Украины (состоялось оно 26 января) в одном из периодических изданий появилась заангажированная публикация о том, что Киевскому славистическому университету грозит лишение лицензии. Автор, ссылаясь на результаты проведенной проверки, приводит, в частности, данные об успеваемости студентов и качестве знаний, которые «не соответствуют аккредитационным требованиям и лицензионным показателям заведения». Дальше речь идет о том, что главный корпус университета находится в помещении Киевского геологоразведочного техникума (ул. Анри Барбюса, 9) и… «разваливается на глазах». Поэтому здание «уже давно рассматривают как объект, который признан аварийным и таковым, который подлежит сносу». (Практика перевода зданий в разряд аварийных, если кому-то это нужно, у нас достаточно отработана.)
Вот в этом-то, очевидно, вся и загвоздка! Здание площадью около 20 тыс. кв. метров с прилегающей территорией в три гектара с хозяйственными сооружениями — и все это на привлекательной местности почти в самом центре Киева. Интересно, что об аварийности здания заговорили только в последнее время.
О земельных притязаниях и многократных «наездах» на геологоразведочный техникум (кстати, единственный в Украине) нам рассказывал его директор. Не так давно его сняли с должности, а другого руководителя так и не назначили. Ходят слухи, что техникум будут переселять, но реализовать этот план мешает славистический университет, арендующий здесь помещения. Договор аренды на этот год КСУ не продлили.
«Наш университет имеет IV уровень аккредитации, — рассказал журналисту ZN.UA президент Киевского славистического университета, доктор исторических наук, профессор Юрий Алексеев. — В 2010 году мы подтвердили соответствие данному уровню.
Осенью того же года у нас неожиданно возникли проблемы, отнюдь не учебного характера. Ко мне пришли какие-то люди и весьма настоятельно предложили продать акции университета. В противном случае пообещали, что у нас возникнут серьезные проблемы, вплоть до того, что министерство лишит лицензий. Месяц спустя начались активные проверки нашей экономической, хозяйственной деятельности. Проверяли долго. Серьезных недостатков не выявили.
В прошлом году университет проверяли трижды. Последняя проверка была в декабре, с участием 33 инспекторов. То, как она проводилась, поразило многих студентов и преподавателей. Студенты заявили, что проверяющие вели себя на удивление бестактно и бесцеремонно.
Где-то в эти же дни по телевидению прошла информация, что мы захватили детский садик в Оболонском районе. Это здание по ул. Мате Залки, 10-г действительно находилось в аварийном состоянии, и нам десять лет назад по решению райсовета дали его в аренду при условии капремонта. До этого два года детей там не было. Пять лет мы просили горсовет дать в аренду землю, но разрешения так и не получили, хоть нам и обещали. Поэтому информация о каком-то самозахвате помещения и земли не соответствует действительности. По моему мнению, она появилась не случайно, это, так сказать, звенья одной кампании, затеянной с целью дискредитации нашего университета и преследующей чьи-то корыстные интересы. Вообще негосударственные вузы сегодня оказались в очень сложном положении».
В своем выступлении на коллегии в Харькове в апреле 2010 года Д.Табачник, касаясь темы количества вузов в стране, которая «достигла критического максимума», заявил о необходимости «оптимизации и упорядочения этой сети». И далее: «Но осуществляться это должно эволюционно, параллельно с реструктуризацией отраслей экономики и изменениями спроса рынка труда, в первую очередь на региональном уровне, без какого-либо административного давления». За прошедший период это давление и министерский диктат только усилились. К тому же появилась еще одна контролирующая структура. С помощью которой процесс «оптимизации» сети ускорится. Но улучшится ли в результате качество образования — это еще вопрос.
Работа и учеба за рубежом — утраченные иллюзии и реальные возможности
Анастасия Беспальчая «Зеркало недели. Украина» №3, 27.01.2012
Как известно, на соседском огороде трава всегда зеленее. Поэтому обучение за границей априори воспринимается многими родителями как нечто солидное и престижное. И как одна из самых легких возможностей получить путевку в мир большого успеха. Вместе с тем многие понимают, что это — рулетка. И есть риски.
Очень часто молодые люди быстро приспосабливаются к новым реалиям, потом не хотят возвращаться на родину, и таким образом рано покидают родительское гнездо. Но бывают случаи, когда плавно и незаметно ломается психика (особенно у инфантильных подростков). В первую очередь потому что, как ни крути, а приходится жить в своеобразном интернациональном общежитии.
Конечно же, к выбору места заграничного обучения нужно подойти с максимальной серьезностью. Чтобы не превратиться в героя рассказа О’Генри из цикла «Благородные жулики», где повествуется об университетских манипуляциях. Рынок образовательных и туристических услуг предлагает организовать обучение за рубежом, но какие подводные камни могут ожидать желающих?
Марина Пасичник, руководитель центра консультирования мигрантов: «Родителей, которые намереваются послать своих детей учиться в другие страны, хочу предостеречь от распространенного мошенничества. Тут есть большая доля риска. Нельзя безоговорочно верить объявлениям в Интернете, где предлагается помощь в получении заграничного диплома. Сначала они заключат договор, где говорится о предоставлении информационных услуг. После этого с вас потребуют деньги (каждая фирма берет свою сумму). Но на самом деле никакой помощи в организации обучения за рубежом вы не получите. Привлечь же их к ответственности нет никакой возможности, потому договор вроде бы соблюден — общая консультативная информация предоставлена. Грубо говоря: да, есть Сорбонна, да, там можно учиться. И все. В нашей практике было очень много случаев, когда люди потом чувствуют себя обманутыми, но доказать ничего не могут.
На самом деле нужно просто выбрать учебное заведение, списаться с его представителями и прислать необходимые документы. Потом самостоятельно обратиться в посольство данной страны и получить возможность выехать на учебу. Никакое посредничество тут не нужно.
Мы бесплатно консультируем людей, которые собираются за границу, в том числе и на учебу. В нашем центре есть бесплатная горячая линия: 527 или 0800505501 со стационарных телефонов.
Кстати, еще один источник нужных сведений — программа OpenStudy. Это информационный ресурс, где можно узнать об инновационных методах в образовании и науке. Вместо учебы за границей многие молодые люди предпочитают волонтерские программы».
Ирина Конченкова, исполнительный директор международной общественной организации «Школа равных возможностей»: «Уже 5 лет мы занимаемся заграничными поездками волонтеров нашей организации. Молодые люди едут на год, и для каждого готовится индивидуальная программа. Чаще всего их принимает Польша или Германия, но бывают и другие страны, например Словения. Тут, в Киеве, с волонтерами работать трудно — часто у них нет времени или желания делать что-то для нашей школы. К примеру, активно участвовать в нашем уникальном и очень успешном «Гендерном интерактивном театре», который минимум два раза в год гастролирует в Европе. Так что будущая поездка за границу становится мощной мотивацией: чем активнее работаешь в родных пенатах, тем больше шансов ее получить. А спектр деятельности в заграничных общественных организациях большой: работа с трудными подростками по месту жительства, работа в детских садиках и другое. Также можно предложить свои проекты. Например, одна из лучших актрис нашего театра поехала волонтером во Вроцлав и написала театральный проект. Общественная организация, которая ее приняла, нашла спонсоров, проект был реализован, и наш театр даже приехал с гастролями во Вроцлав. На следующий год театральный проект нашего волонтера также оказался успешным.
Я знаю много грустных случаев: молодые люди ехали за границу от других общественных организаций, и, не выдержав жестких условий договора, возвращались. У нас же внеплановых возвращений ни разу не было — все уезжали и приезжали довольными. К тому же изначально знали, что им полностью обеспечат быт, знали, сколько будут получать и даже на чем можно сэкономить. Все оплачивает «Программа европейского волонтерства».
— Год я работала в Варшаве, в еврейском культурном центре, — делится своим волонтерским опытом Мария Григорова. — Для нас сняли большую трехкомнатную квартиру — у каждого была своя комната. Адаптация к новому мировосприятию наступает где-то через полгода. С нами жили парень из Германии и парень из Исландии. И вот исландцу тяжело было адаптироваться. Но справился. Одна из причин моей поездки — желание путешествовать по Европе. Каждые три месяца я куда-то выезжала — для этого были все необходимые документы, а еще каждый месяц предоставлялась возможность поехать в Украину. Но и деятельность была очень интересная; я участвовала в нескольких проектах. К примеру, работала в детском садике и в проекте «Еда на колесах» — волонтеры навещали пожилых людей, привозили им еду и общались с ними. На всю жизнь запомню столетнего старика, к которому неоднократно приходила. У этого человека было отменное чувство юмора и поразительная ясность разума. И он самостоятельно ухаживал за собой.
Еще запомнилось обилие выходных. Мне, как православной, разрешали отдыхать в православные праздники; поскольку Польша католическая страна, в католические праздники тоже отдыхали; ну и в еврейские — тоже, работали ведь в еврейской общине. А у них очень много праздников, иногда они длятся целую неделю. И самое главное: после таких поездок возвращаешься самодостаточной личностью.
Эмигрантка Евгения Бончук хотела получить американский диплом, но ей пришлось бросить Florida Atlantic University: «Всему виной — банальная финансовая проблема. Изучение одного предмета на протяжении семестра стоит 480 долл., а ходишь ты на него всего раз в неделю. Если хочешь получить образование в средненьком американском институте, готовь где-то 45 тыс. долл. Обычно родители обеспечивают такими деньгами своих детей — у них так принято. Оплату нужно готовить заблаговременно, учитывая, что тут все живут в вечных кредитах, которые выплачиваются не годами, а десятилетиями.
Еще я слышала, что в один из частных закрытых колледжей в Швейцарии детки прилетают на своих самолетах. Обучение там стоит полмиллиона долларов. Американская подруга пересказывала диалог двух учеников того учебного заведения:
— А ты как, наркотики там пробовал?
— А ты попробуй откажись! Сокурсники этого не поймут…
Так что для них это — все равно, что для нас бутылочку пива выпить. Вместе с тем к учебе там относятся жестко — за любой «незачет» можно вылететь».
Но главное — результат, то есть — чему научат в заграничных вузах? Один плюс несомненен — это язык. В языковой среде он постигается в совершенстве. Можно уверенно говорить о расширении кругозора, культурном обмене, отмене многих ментальных барьеров. Это личный опыт, он бесценен, и его никакими книжками не заменишь. Многие казавшиеся привычными вещи переосмысливаются навсегда, отбрасываются стереотипы и ограничения.
Есть и возможные минусы. Ведь неизвестно, как подросток отреагирует на новое окружение, насколько он готов к такой резкой перемене статуса, как быстро и успешно сможет адаптироваться. Родителям не стоит замалчивать эти трудности и риски, расписывая заграницу как рай земной. От завышенных ожиданий адаптация только усложняется. Поэтому лучше говорить с будущим студентом честно и взвешенно. И, конечно, собрать как можно больше информации о месте учебы.