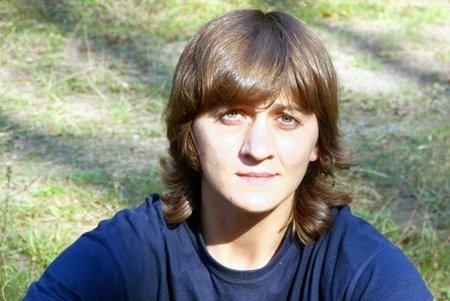Насколько разные люди живут в регионах Беларуси, и как ландшафт влияет на характер наших соотечественников? Правда, ли, что западные беларусы более цивилизованные, а живущие в Полесье – «дикие»? Об этом рассказывает Ирина Вершицкая, научный сотрудник Академии наук РБ.
Научный сотрудник Института экспериментальной ботаники Академии наук Ирина Вершицкая занимается полевой научной деятельностью уже более десяти лет. Большую часть года – с апреля по октябрь – она проводит в экспедициях, бродя по лесам и болотам, и рассказывать о них может долго и увлекательно. Однако беседа с Ириной на тему «Наше Всё» незаметно вывела нас далеко за природные горизонты.
– На вопрос о том, чем интересна Беларусь, многие беларусы часто затрудняются ответить. Возможно, потому, что плохо представляют себе, что можно о себе рассказать?
– Беларусь отличается от многих стран Западной Европы тем, что у нас сохранились обширные естественные угодья, включающие различные экосистемы: реки, озера, леса, болота. Это наше настоящее богатство, то, чем мы можем гордиться, общеевропейский природный генофонд! Именно поэтому к нам приезжают западные ученые. На Западе уже почти не осталось нетронутой природы, за исключением горных территорий. Большая часть равнин давно освоена, огорожена, преобразована в газон…
Поэтому изучать леса, болота, естественные поймы рек едут к нам. Многие исследовательские работы финансируются европейскими природоохранными фондами, например, Глобальным экологическим фондом. Немало наших водно-болотных угодий имеют статусы международной охраны, например статус Рамсарских угодий (по названию города, в котором принято положение о выделении уникальных болот). А Березинский заповедник имеет еще и статус биосферного – важного для сохранения природы планеты.
На средней Припяти в Брестской и Гомельской областях находится крупнейший в Европе участок естественной речной поймы и низинных болот (90 450 га). Более 90% площади – пойменная растительность, в том числе уникальнейшие дубравы. Долина Припяти – миграционный коридор между Западной и Восточной Европой, по которому идет распространение животных и растений.
С ботанической точки зрения наша территория интересна тем, что находится на стыке различных флористических областей.
У нас встречаются виды растений, произрастающие и в Западной Европе, и в тайге, в лесостепи, горных Карпатах и других регионах.
Наша страна – отличный научный полигон для изучения, например, процессов изменения климата: как ведут себя те или иные виды на границах ареалов (расширяют, сокращают ареал), каких видов становится больше – пришедших с юга или севера…
Ирина Вершицкая
– Беларусы «на местах» осознают уникальность своего природного ландшафта? Помогают ли ученым?
– Однажды в Речицком районе Гомельской области в деревне Белое болото мы зашли в лесничество отметить командировки. Объясняем: «Мы из Академии наук, делаем такую-то работу…» Молчание. Мы еще раз объяснили. Нам говорят: «А что такое Академия наук?» «Ну, – отвечаем, – такое большое научное учреждение». – «А где оно у нас?». – «В Минске». «Никогда не слышала!», – сказала женщина, которая должна была проштамповать нам командировки. Так что где-то даже и не знают.
Есть беларусы на «административных местах» и местное население. Именно от первых зависит, как будут реализованы наши разработки, как будет вестись хозяйственная деятельность (например, лесное хозяйство) с учетом разработанных нами природоохранных ограничений и прочее. Здесь отношения исключительно деловые, бумажные. Уникальность и научную важность своего ландшафта осознают, вроде, все. Но практическая деятельность по его сохранению вызывает разную реакцию: кто-то поддерживает, кто-то весьма скептичен. Всё-таки для многих природа во всех ее проявлениях – экономический ресурс, объект торговли и получения прибыли. А просто сохранять «чтобы было», «чтобы дети увидели»… «А куда оно денется?» К сожалению, понимание приходит, только если ресурс исчерпан, как в Европе…
– А народ, местное население, как относится к исследователям?
– По-разному. Работать ведь приходится не в городе, а в сельской местности, где всё на виду. Сельчане всегда довольно подозрительно относятся к «пришельцам». А тут еще и с непонятной миссией – не покупают, не продают, ходят туда-сюда… В большинстве случаев в деревнях встречают настороженно – чего ты тут лазишь… Впрочем, чаще всего помогают – с поселением, транспортом. Делятся опытом, рассказывают о местном укладе, о каких-нибудь природных особенностях своей местности…
Но в результат нашей деятельности не очень-то верят. И сложно бывает растолковать людям, зачем охранять какое-нибудь растение, жука или бабочку, если от них нет пользы.
Вот барсука надо охранять – он полезный, его истребляют! Начинаешь толковать: экосистема, единство, взаимосвязь природных компонентов… Ничего не понятно, но смотрят с уважением.
А вообще, истории бывают разные.
Как-то в Ошмянском районе, на самой границе, мы работали (разумеется, с ведома пограничников) в погранзоне. Разбрелись каждый по своим делам. Я вышла к деревне и присела на луговинке, пишу дневник, жду машину. Идет ко мне такой шустрый дедок: «Што эта вы тут робіця?». Объясняю, что я из Академии наук. А рядом бинокль лежит и сумка-планшетка. И рюкзачок, и боты на мне болотные… Вижу, дед смотрит подозрительно: что это за девка такая непонятная, в ботах, с биноклем, да еще и пишет?! «Ну, – говорит, – добра». И пошуровал куда-то. Часа полтора проходит, вижу: идет мой дед назад – печальный… «Ааа, дык гэта вы на уазіку утрам ехалі!». Я говорю: «А вы что, уже в погранотряд сбегали, сдали шпионку?» – «Ну, здаў. Зрабіў, што трэба!». Такой вот беларус, с чувством высокого гражданского долга…
Полесье гостеприимней. На Пинщине есть деревня с удивительным названием Парэ – стоит на речке, среди болот, где и леса почти нет. Я там, кстати, впервые увидела поленницу, сложенную не из колотых дров, а из пучков ивовых прутьев. Топят хворостом! Там мы жили у бабули, которая нас кормила просто на убой.
Никогда не забуду деревенские кровяные колбаски, которые она специально для нас в печи делала. Находила же время среди бесконечных тяжелых сельскохозяйственных забот.
Низинное болото Званец на Брестчине – это известный всему миру заказник по охране знаменитой птички вертлявой камышовки и прочих уникальностей. Мы много по нему работали. Иду я как-то в том краю, ищу греблю [насыпь на болоте – ред.], ведущую на лесной остров. Прохожу через хутор Ямник. А там бабуля старенькая в огороде ковыряется, напевает… Дай, думаю, спрошу, есть ли там эта гребля – вдруг затопило, всякое бывает… Бабка говорит: «Всё добра, идытэ! А хто ты, адкуль?». Объясняю, что изучаем, мол, ваше болото… Бабка говорит: «Когда назад будешь идты? Часа праз два? – О, то добра! Я якраз буду исты и питы, заходы до мэнэ, я и тобе зраблю, будэм разам исты-питы!» – рукой помахала и опять ковыряется в огороде.
А в Сморгонском районе Гродненской области был другой случай. Тоже шла я как-то через лужок от леса к лесу. Стоит большой стог, а рядом пасется корова. Коров я не боюсь, но знаю, что не все они спокойные и ласковые… Эта оказалась дурноватой. Рога наставила – и ко мне, я от нее, а лейцы, на которых она навязана, такие длинные… Я уже бегом, и слава Богу заканчивается эта долгая привязь.
И тут из-за стога выходит дедок. Я говорю: «Добрый день! Ваша корова?» – «Моя!» – «А что ж вы ее не прогнали?» – «А мне было интярэсно, чым кончыцца!»
– А как вы относитесь к мнению, что западные беларусы более цивилизованные, а Полесье – «дикое»?
– Кстати, Полесье тоже делится на западное (Брестчина) и восточное (Гомельщина). Запад действительно всегда выглядел цивилизованней. Это заметно даже по тому, что растет в огородах, в цветниках. На Браславщине или Брестчине, например, можно составить огромные списки культурных растений, которые там выращиваются на протяжении многих десятков лет. А на Могилевщине или на Гомельщине такой флористической культуры нет – растут в основном тривиальные флоксы, рудбекии, мальвы… Что-нибудь необычное стало появляться только около десяти лет назад. Конечно, на многое повлияла Чернобыльская катастрофа.
Зато как полешуки работают! Начиная с Мозырщины и до Бреста – у каждого района своя специфическая огородная культура выращивания. Лунинец – это поля клубники. Столинщина – земля огурцов и помидоров. Пинск – лук. Давид-городок – цветы.
В сезон люди работают не покладая рук, это их способ выживания, образ жизни, традиция. Раз эти поля не загибаются, значит, есть там смена поколений, остаются дети.
А в Ольшанах – есть такая деревня в Столинском районе – вообще живут «короли огурцов». Там сплошные теплицы, и неважно, как ты учился в школе, читал книжки или не читал – ты должен уметь выращивать огурцы. Потому что огурец – это источник твоего вдохновения, благополучия и счастливого будущего. Люди там живут в достатке. С виду дом может не повергать в шок своей роскошью – но зайди в этот деревенский дом, и можешь увидеть там люстру за полторы тысячи долларов или еще что-нибудь в этом роде. Так что Полесье тоже вполне «цивильное»…
– Ну да, ведь и первую клубнику – самую дорогую – к нам действительно везут с юга Беларуси. Где-нибудь на Витебщине она в начале июня никак не вырастет…
– Да, на Витебщине и климат, и почвы не совсем благоприятны для этого. Но зато здесь есть большие верховые болота: Ельня, Казьяны, Великий Мох, Большой Мох – и другие, в огромном количестве. А это значит – клюква. Много хвойных лесов, а это черника, голубика. Огромное количество озер – а это рыба.
В этом году черника стоила до 24 500 за килограмм. Два больших ведра – 500 тысяч. То есть просто собирая и сдавая ягоду – сначала чернику, потом клюкву – в сезон можно очень хорошо заработать. Главное – без хищничества. Люди ведь всю жизнь здесь ягоду собирали, и она не переводилась, значит, собирали с умом, не вредили ни лесу, ни себе.
Вообще, 38% нашей страны покрыто лесами, треть территории. Люди связаны с лесом и по работе (в лесном хозяйстве), и за пределами работы (ремесленничество, заготовка ягод, охота). Да и вообще: все наши поля, луга, города – это ни много ни мало вырубленный или сожженный лес. Например, все наши пашни на лучших плодородных почвах – это наши бывшие дубравы.
Беларусский человек прочно (по крайней мере, деревенский) связан с природой, с природными условиями, в которых он обитает, и несет на себе отпечаток той местности, из которой он вышел.
В каждом регионе Беларуси есть свое связующее звено. Север – это крупные верховые болота и озера, Полесье – река Припять и обширные пространства низинных травяных болот и лугов. Очень тесно люди связаны с крупными реками, издревле селились на их берегах, ловили рыбу. Река порой была единственным из доступных путей сообщения. Отсюда необходимость иметь лодку в хозяйстве, уметь разбираться в тонкостях рыбной ловли. Могилевщина – реки Березина, Днепр; Гродненщина – Неман…
Крупнейший в Беларуси комплекс из верховых и переходных болот с озерами «Ельня» в Витебской области – место уникальное, здесь еще с ледниковой эпохи сохранились виды растений, которые характерны для лесотундры.
– А характер у беларусов тоже зависит от географического положения?
– Ну да, и это вполне можно объяснить. На той же Витебщине – почвы тяжелые, завалуненные, мокрые, глинистые… Там всегда позже сажали и сеяли – не только потому, что холоднее, но потому, что земля позже просыхала. Земля не сказать что неплодородная, но очень тяжелая для обработки. И там нет больших обширных полей: там лес, кусочек поля, лес, кусочек поля. На Витебщине люди издревле селились в основном по берегам озер, у каждой деревни есть свое озеро. И свое маленькое поле. Если посмотреть на старые, еще до Первой мировой войны, карты – там невероятное количество населенных пунктов, хуторков. Их было намного больше, чем сейчас. Ведь такие маленькие поля обрабатывать можно было единолично, силами одной-двух семей.
А вот на Полесье, где сплошь болота, деревни строились огромные. Люди шли, находили сухой остров (а другого места нет!) – и там ставили свою вёску. И все делали сообща, потому что жили в условиях, изолированных от всего остального мира. И если Припять разливалась, она топила всю деревню, и все спасались, друг другу помогая… Потом уже, когда осушено было Полесье – кстати, осушение началось в конце ХIX века, ну а массово, конечно, во второй половине ХХ века, – тогда им стало немного легче, люди уже из этих огромных деревень на другие места расселились… Но, тем не менее, привычка жить в больших общинах – осталась. В Лунинецком районе, например, все крупные деревни имеют свой герб. Может быть, поэтому на юге люди более общительные.
А на севере менталитет более индивидуальный: мой дом – моя крепость. И даже эти цветы красивые в огородах – это работа на себя, на свой двор.
– Но что-то же объединяет нас, таких разных?
– Вообще, нацию и народ должны связывать, в первую очередь, язык, обычаи и закон. У нас как-то так не получилось…Ну да, мы все живем в границах нашего государства, у каждого есть связь с тем местом, где он живет или родился – по укладу – и всё, не более того. Я не знаю, что общенациональное объединяет двух простых парней, например, из Россон и Пинска… Интернет?
– Если уж говорить про нечто общее для всех беларусов, то Чернобыльская трагедия, наверное, уж точно нас объединяет…
– Не уверена. Это трагедия тех, кого отселяли, и тех, кто вернулся и живет – точнее доживает – в зоне. На Гомельщине до сих пор люди живут в местности с клеймом «радиация». Мы – не они. Это как если у кого-то кто-то умер – да, мы сочувствуем, но ведь это не у нас… Мы не с ними. Многие приезжие до сих пор не собирают в местных лесах ягоды и грибы. А люди там живут. Много старых, одиноких…
Помню, в Хойникском районе работали по восстановлению выработанных торфяников. Там много асфальтированных дорог (чтоб пыли меньше было радиоактивной), связывающих полупустые деревни. И вот идет по такой дороге старуха древняя, сгорбленная артритом, с палочкой, идет полоть свою картошку, еле тянется. Я много старушек видела, но тут была такая безнадежность и отчаяние… И я понимаю, что если эта бабка не будет ходить черт-те куда из этой разваленной вески полоть картошку – она просто умрет. Только земля ее держит на свете…
Вот эти разрушенные, выселенные деревни, в которые вернулись одни старики, особенно для полешуков, всегда живших общинами, – это кошмар.
Хотя в больших оставшихся деревнях и городах всё вроде бы и нормально, как обычно.
Кстати, зоны отселения – это природные лаборатории, в которых можно наблюдать, что будет с природой, когда из нее уйдут люди. Для фауны там просто рай: все плодится и размножается. С растительностью несколько сложнее, что-то буйствует, а что-то исчезает, не выдерживая конкуренции. В «зоне», так мы обычно называем эти земли, частенько снимают фильмы о дикой природе, бывает много научных экспедиций из разных стран.
– Выходит, люди мешают природе цвести и размножаться?
– Главный принцип экологически ориентированного природопользования – важно не то, что забираешь из природной среды, а то, что в ней оставляешь. В основной массе люди не совсем представляют, что же, кроме мусора, можно оставить в природной среде… Природе часто мешает жесткий административный ресурс и некомпетентность. Вот, например, живет в Кореличском районе крапчатый суслик – уникальный вид для Беларуси, сам-то он уроженец степей. Одна колония жила при дороге, в еловой полезащитной полосе. Проезжал там как-то некий начальник и возмутился, что земля между дорогой и еловой полосой не освоена – что, мол, за непорядок! Засеять! Местные взяли под козырек. Засеяли. И суслик ушел, одно местообитание уничтожено.
Когда сверху спускают нелепый приказ – это у нас невозможно ни оспорить, ни проигнорировать. Вот приехал из города, ему показалось, что земля пропадает. А такие полосы при дороге в принципе нельзя распахивать под культуры!
Но велено – и распахивают. Есть только единицы хозяйственников, которые осмеливаются поступать не как старший велит, а как диктует разум и опыт.
А ведь государство везде дает разнарядку: сдай столько леса, столько молока… Плановая система многое губит, так как не успеваем мы пока, да и не умеем одновременно и лес рубить, и цветок в лесу охранять. И это тоже, к сожалению, «наше всё»