Наша домашняя библиотека — это личное дело. Библиотека отражает наши ожидания, амбиции и поиски. Мы гордимся ею, хотя зачастую значительная часть книг остается непрочитанной или откладывается на потом. Но именно в этом и заключается парадокс библиотеки. Главное в собирательстве книг не всегда только чтение, и часто важнее обещание чтения, сама возможность, которая нам открывается (неслучайно философы замечали, что счастье — это возможность обещать). Покупая книги, мы обещаем себе хорошее время, которое с ними когда-нибудь проведем. И все-таки почему привычка собирать непрочитанные книги естественна, что стоит за самой идеей библиотеки как концепта и каким образом книги формируют наш опыт, независимо от того, прочитаны они или нет? Рассуждает философ Максимилиан Неаполитанский.
Домашние непрочитанные книги как коллекция черных лебедей
Когда философ, писатель и исследователь семиотики Умберто Эко говорил о своей личной библиотеке в 30 тысяч книг, он любил подчеркивать, что ее смысл не сводится к демонстрации культурного капитала (который у Эко, безусловно, был, как у профессора и интеллектуала). Напротив, библиотека для Эко была живым исследовательским инструментом. Эко отмечал, что посетители делятся на две категории: первые с восторгом спрашивают, сколько же книг он успел прочитать, а вторые, более редкие и проницательные, понимают, что ценность библиотеки заключается именно в непрочитанном. Этот остаток, пространство неизвестного, и формирует подлинное значение коллекции книг.
Эта мысль вдохновила современного эссеиста Нассима Талеба, автора книги «Черный лебедь». В ней Талеб описал феномен редких и непредсказуемых событий, которые способны полностью изменить картину мира. До XVII века в Европе считалось, что все лебеди белые, пока в Австралии не были открыты их черные собратья. Схожий механизм работает и в культуре, и в истории: то, что казалось невозможным, вдруг становится фактом и разрушает прежние представления. Талеб переносит этот образ на интеллектуальную жизнь, называя феномен непрочитанных книг «антибиблиотекой»: пространством, где главное — это объем незнания, то есть объем неизвестного и непредсказуемого. У Эко была именно такая антибиблиотека.

Наши домашние библиотеки с непрочитанным книгами — это тоже антиколлекции, в которых собраны «черные лебеди» для личного пользования. На полках могут годами стоять книги, которые никто не берет в руки, пока однажды случайная необходимость или мимолетный интерес не сделают их решающими. Чтение оказывается процессом непредсказуемым, зависящим от внезапных совпадений. Обычная покупка «на потом» через годы может превратиться во встречу с текстом, изменяющим ход наших мыслей. И в этом ценность непрочитанных книг.
Умберто Эко в своем эссе о библиотеках замечал, что любое собрание книг — механизм признания и исключения. В библиотеку попадает лишь часть текстов, отобранных личной интуицией, культурной модой или случайной встречей в книжном магазине. Это формирует особый «сад случайностей», книги выстраиваются в аллеи, взаимодействуют друг с другом, рождают перекрестные смыслы, которые невозможно предугадать заранее. На одной полке у нас дома могут оказаться совершенно разные по духу и настроению авторы. Поэтому домашняя библиотека существует как живое пространство вероятностей. И в этом смысле непрочитанные книги важнее прочитанных, так как они сохраняют потенциал неожиданного знания, которое еще только предстоит открыть.
Все уже придумали до нас. Что такое цундоку?
Тут важно заметить, что Эко и Талеб не были первопроходцами в одобрении непрочитанных книг. В японской культуре давно существует особое слово для привычки, знакомой многим книголюбам, — это цундоку. В буквальном переводе это понятие означает «отложенное чтение» или «складывание книг для чтения». Смысл понятия прост: это практика покупать книги, но не читать их сразу, а оставлять на полках. История цундоку уходит в эпоху Мэйдзи (конец XIX века), когда Япония активно заимствовала западные формы культуры, а развитие массового книгоиздания сделало литературу доступной для широкого круга читателей. В этот период книги стали предметом повседневного быта, и в этот момент появилась привычка их «откладывать». Первые письменные упоминания о цундоку фиксируются именно в это время, что отражает двойственное отношение к чтению, потому что желание обладать текстами не всегда совпадало с готовностью их освоить.

Однако важно подчеркнуть, что цундоку в японской культуре почти не имеет негативной окраски, потому что является своеобразным знаком уважения к книге. Непрочитанный роман не воспринимается как бесполезный — он сохраняет ценность благодаря самому факту присутствия в доме и готовности быть востребованным в будущем. Некоторые исследователи культуры чтения обращают внимание на то, что цундоку можно рассматривать как метафору возможностей самообразования. Полки с отложенными книгами формируют интеллектуальное поле возможностей человека, то есть книги еще не освоены им, но уже обозначают направление движения и задают тон будущему чтению. В этом есть определенное достоинство из-за того, что человек признаёт ценность знания, даже если оно пока остается нераскрытым. По сути, цундоку тоже строится на принципе антибиблиотеки, только в более повседневном смысле. Купили книгу и не прочитали ее? Ничего страшного, вы уже сделали хорошее дело (для себя в первую очередь).
Как наслаждаться обстановкой непрочитанных книг
Немецкий философ Вальтер Беньямин в знаменитой заметке «Я распаковываю свою библиотеку» писал о переживании особого момента — встрече с книгами при их раскладывании по полкам. Для Беньямина это был опыт возвращения в собственную историю, где каждая книга хранит память о том, когда и при каких обстоятельствах она была приобретена или найдена. При этом Беньямин подчеркивал, что подлинная ценность библиотеки состоит в возможности передачи своей коллекции, ведь книги почти всегда переживают своих владельцев и находят новых читателей. Наша коллекция непрочитанных книг может стать такой же непрочитанной коллекцией и для другого человека.
Беньямин также отмечал, что жизнь читателя разворачивается между порядком и беспорядком, внутри которого проявляется сама суть книжной коллекции (какой бы она ни была). В этом плане библиотека почти что становится нашим обиталищем (как минимум обиталищем наших мыслей), где книги и человек сосуществуют и образуют обстановку книжной повседневности. Здесь вновь важна сама возможность быть среди книг, жить внутри книг как вещей, которые создают ощущение дома. Собственно, и на своем опыте мы можем это подтвердить: дом с книгами всегда уютнее дома, в котором их нет.
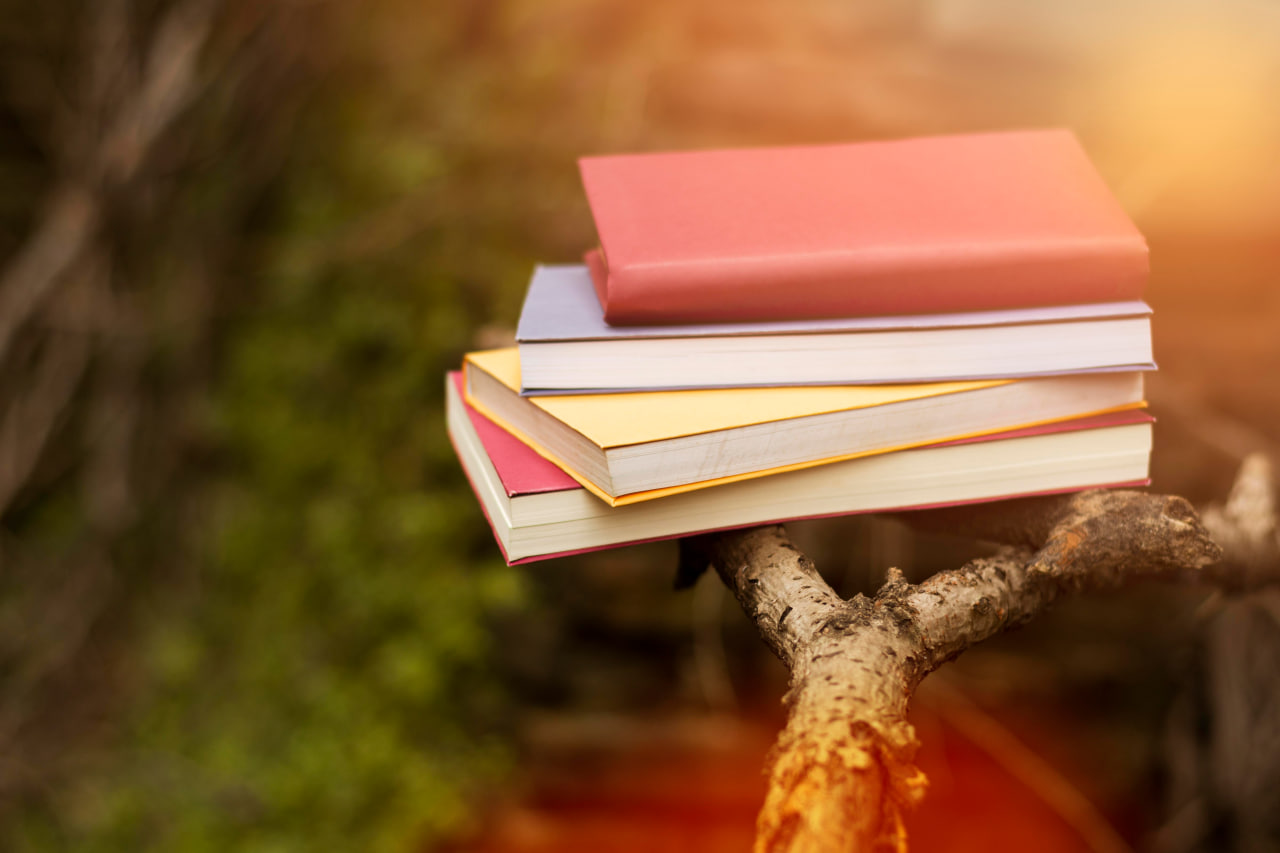
Непрочитанные книги пребывают с нами в разные периоды нашей жизни. В определенной степени книги, которые, например, переезжают вместе с нами, как бы намекают нам, что мы все — читатели, которые коллекционируют на самом деле не книги, а жилища вокруг них. Это не библиотека собирается для наших квартир и домов, а квартиры и дома «вырастают» вокруг наших книжных коллекций. Ведь эти коллекции имеют особое постоянство, так как долгое время остаются именно непрочитанными. Поэтому, пока мы не читаем, мы можем наслаждаться обстановкой книг и признавать их как вещи, наполняющие дом смыслом. В стопках и на полках даже наших антибиблиотек скрыто чувство укорененности, возможность укрыться среди знакомо-незнакомых обложек, в том мире, где каждая книга является звеном в длинной цепочке нашей личной истории. Именно в этом и состоит роль библиотеки из непрочитанных книг — быть пространством, в котором чтение и жизнь почти неразделимы.



