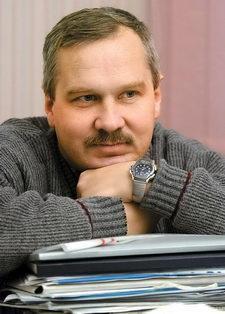Спасибо за публикацию в «2000» статьи Дмитрия Королева «Переход на инновационный путь развития явно задерживается… Размышления над официальной статистикой» (№ 20(558), 20—26.05.2011). Автор, опираясь на размещенную в интернете информацию Госкомстата, действительно поднимает важный вопрос о бедственном состоянии отечественной науки. Но, как представляется, не всегда верно расставляет акценты и интерпретирует опубликованные данные. На фото: Игорь ЕГОРОВ, д-р экон. наук, Центр исследований научно-
технического потенциала и истории науки НАНУ и НТК статисследований Госкомстата, Igor_Yegorov1@ukr.net
Сразу замечу: официальный статсборник с таблицами о состоянии науки и инноваций за предыдущий год появится, скорее всего, не раньше осени. Поэтому приведенные данные нельзя считать ни полными, ни окончательными. Тем не менее то, что уже стало «достоянием общественности», вряд ли изменится существенно. В октябре—ноябре будет возможность провести более тщательный и детализированный анализ, но в целом значения макропоказателей останутся примерно такими же. Поэтому перейдем к анализу представленных данных.
Необходимо сразу же отметить, что в уточнении нуждаются некоторые определения, используемые г-ном Королевым. В начале статьи он анализирует динамику изменения численности занятых научными исследованиями и разработками. При этом упускается существенное дополнение — занятых «в качестве основной деятельности». Что это значит?
В годы независимости в Украине быстрыми темпами росло количество так называемых «совместителей» (обобщенные данные об их численности приводятся в статсборниках). В последние годы их численность достигала 80% занятых наукой «по основному месту работы». В значительной степени — это преподаватели вузов и исследователи, занятые сразу в нескольких НИИ (обычно — неполный рабочий день).
В соответствии с используемой международными организациями (ЮНЕСКО, ОЭСР, Евростат) методологией эти люди также должны быть учтены как научные работники. Расчеты показывают, что в этом случае численность тех, кто занят у нас в сфере НИОКР, должна быть увеличена примерно на 40% (с учетом частичной занятости).
Для иллюстрации негативной динамики приведенные автором статьи данные могут и подойти, но для более точной количественной оценки и для международных сравнений, где подобные показатели приводятся в так называемом «эквиваленте полной занятости», используемые цифры не годятся. Феномен совместительства в науке заслуживает, скорее всего, специального разговора, но здесь заметим, что в целом, помогая решать материальные проблемы ученых, эта форма занятости далеко не всегда способствует концентрации на решении действительно важных научных проблем, заставляя специалистов «метаться» между разными местами работы в поисках дополнительных заработков.
Приводя цифры о кандидатах и докторах, занятых в сфере НИОКР (еще раз подчеркнем — «в качестве основной деятельности»), автор задает вопрос, где же заняты остальные «остепененные» соотечественники, если не в науке?
Ответ на самом деле прост. Некоторые — действительно в «бизнесе, госуправлении, политике», но подавляющая часть — в сфере образования. Именно в вузовском секторе сосредоточено наибольшее количество отечественных кандидатов и докторов наук. К сожалению, как свидетельствуют проведенные в разных регионах страны исследования, у большинства вузовских работников нет времени на науку: все поглощает учебный процесс. И это — серьезная проблема, связанная с рациональным использованием интеллектуального потенциала страны.
Подобное положение вещей, конечно, не снимает вопроса о качестве подготовки кандидатов и докторов наук и склонности политиков и администраторов к получению научных степеней. Несколько лет назад на одной конференции я предложил, как мне кажется, достаточно простое решение: если человек достигает какого-то уровня в административной иерархии, он автоматом должен получать диплом кандидата наук, а если такой диплом есть — доктора.
Конечно, если должность высокая (например, министр или глава комитета парламента), то степень доктора может быть присуждена и без кандидатской. Для близких родственников и друзей таких лиц условия могут быть более строгими: они, к примеру, должны будут еще и сдать экзамен по курсу начальной школы по соответствующему предмету.
Это условие не всегда легко будет выполнить детям, женам и прочим подругам, но для них можно придумать что-то попроще или заранее раздать ответы. Важно другое: если человека с административной должности снимают или срок его полномочий в парламенте заканчивается, то диплом отбирается. Жены, подруги и дети идут «в пакете».
Жаль, что научная общественность не прислушивается к подобным «предложениям». А ведь можно было бы существенно разгрузить работу научных советов и избавить многих ученых (в общем-то зависимых от руководства институтов людей, где эти советы находятся) от дополнительных унижений, когда возникает необходимость идти на сделку с совестью.
Грустно, но иного пути, кроме повышения требовательности к своей работе и работе коллег — у ученых нет. Очень редко встретишь действительно принципиальную оценку откровенно плохой работы в научных журналах, даже если ошибки очевидны или содержание публикации — откровенный плагиат.
При этом понятно, что нежелание идти на конфликт приносит больше вреда престижу науки в глазах общества, которое наблюдает в научной среде подчеркнуто толерантное отношение к различного рода проходимцам и неучам. В итоге всевозможные галушко, каныгины и прочие «ученые» чувствуют себя вполне комфортно, продолжая строчить полные ошибок (а иногда и откровенной лжи) публикации и пробуя себя в жанре популяризаторов науки.
Но вернемся к статье. Г-н Королев в качестве позитивного момента отмечает рост расходов на НИОКР в Украине в 2010 г. Но Госкомстат традиционно приводит данные в текущих ценах (без учета инфляции). На самом деле радоваться нечему. Как правило, инфляция съедает весь прирост расходов. К тому же нужно иметь в виду, что в «кризисный» 2009 г. наблюдалось падение затрат на науку даже в текущих ценах. Так что нам бы восстановить хотя бы докризисный уровень реального финансирования.
А вот насчет доли расходов на НИОКР в ВПП, которая не дотягивает до 1%, что названо «катастрофой», я не был бы столь категоричен. Множество более благополучных стран имеет уровень расходов на НИОКР в ВВП более низкий, чем мы, или примерно такой же. Среди них, к примеру, Венгрия, Польша, Мексика. Даже процветающий Сингапур имел в 1990-е годы менее 1%, хотя темпы его экономического развития уже в то время были очень высокими.
В принципе уровень расходов на НИОКР значительно зависит от выбора стратегии научно-технического развития. Если она базируется преимущественно на заимствовании новшеств, то затраты собственно на внутренние НИОКР могут быть и относительно небольшими. Если же страна с самого начала стремится создать собственную мощную научную базу, тогда действительно такой уровень расходов нельзя признать достаточным.
Но здесь возникает вопрос: что должно стать локомотивом развития? После ставшего очевидным в 2010 г. провала реализации Лиссабонской стратегии ЕС в части достижения определенных «рубежей» научно-технического развития, эти «рубежи» были благополучно «передвинуты» на 2020 г.
Среди важнейших целей Лиссабонской стратегии у нас обычно вспоминают достижение 3%-ного уровня расходов на НИОКР в ВВП. Но это, на мой взгляд, не главное. Гораздо важнее, что европейцы хотят, чтобы практически весь прирост был достигнут за счет роста расходов в предпринимательском секторе и две трети расходов на НИОКР приходилось именно на него. Ориентиром здесь выступают Япония, Южная Корея, США (в Америке, несмотря на громадные государственные расходы на военные исследования и разработки, примерно две трети общих расходов на НИОКР осуществляет именно частный сектор).
В Украине важнейшей проблемой остается крайне низкий уровень расходов именно на исследования и разработки в промышленности. Эту проблему не решить простым «вливанием» бюджетных средств в еще остающиеся научно-исследовательские институты и конструкторские бюро.
Необходимы решения по стимулированию структурной перестройки экономики, отходу от преимущественной ориентации на поддержку металлургии (с низким уровнем передела) и производство продукции так называемой «базовой химии», которые пока приносят львиную долю внешнеторговой выручки. Только развитие высокотехнологичных секторов и эффективного товарного сельского хозяйства способно стимулировать спрос на научно-техническую продукцию.
Важным аспектом преобразований должна стать и поддержка инновационной деятельности. Здесь, кстати, автор также допускает неточность, рассказывая об изменении доли «предприятий, занимающихся инновациями». В информации Госкомстата речь идет только о промышленных предприятиях. Данные по экономике в целом несколько лучше (как свидетельствуют материалы проведенного Госкомстатом по методике ЕС инновационного обследования, соответствующая доля примерно в полтора раза выше). При этом, что касается отсутствия желания у большинства хозяйствующих субъектов заниматься инновационной деятельностью, автор, безусловно, прав.
Но как же иначе? Украина — чуть ли не единственная страна Европы, где практически «не работают» косвенные методы стимулирования инноваций. Да и нужно ли заниматься инновациями, если существует довольно много способов получать высокие прибыли без особого риска? Правда, не всем, а тем, кто успел приватизировать крупные активы и наловчился получать в той или иной форме скрытые дотации из бюджета (будь то господдержка угольной отрасли или отсрочка платежей за электроэнергию).
В стране нет закона о венчурных фондах инновационной направленности. В то же время несовершенство законодательства позволило сотням таких фондов действовать до последнего времени в сфере недвижимости. Без активизации малого инновационного бизнеса сложно рассчитывать на успех в создании и освоении новых технологий и выпуске продукции.
Что касается прямых государственных расходов в инновационной сфере, то вряд ли стоит на них надеяться и сетовать на их нынешний низкий уровень. Во всем мире инновации — дело бизнеса, государство может либо способствовать инновационной деятельности, либо мешать. У нас, к сожалению, больше мешает.
Если судить по статистике, наиболее успешным в инновационной сфере был эксперимент с созданием технопарков в первой половине прошлого десятилетия. Не все в его реализации было безупречным, некоторые деятели стали создавать «псевдотехнопарки», надеясь получить различные преференции. Сомнительные инициативы дали повод «оранжевым реформаторам» в начале 2005 г. отменить закон о технопарках, что фактически означало сворачивание их деятельности. Это, в частности, привело и к снижению доли инновационной продукции в общем объеме промышленного производства.
Попутно заметим, что в отличие от количества внедренных новшеств и процессов (которые анализирует автор статьи), безотходных, прогрессивных, высоких, критических и прочих технологий, финансовые показатели являются более информативными, так как действительно демонстрируют вклад инноваций в экономическое развитие. Если новизна продукции — понятие в значительной степени субъективное, то объемы производства и уровень доходов инновационных компаний — вполне реальные индикаторы экономического развития. Вероятно, они должны играть ведущую роль в оценке эффективности инновационного развития.
Еще один важный момент связан с ростом расходов на инновационную деятельность со стороны зарубежных заказчиков. Здесь, видимо, не все так мрачно. Следует заметить, что даже в своем ежегоднике Госкомстат не дает разбивки по странам происхождения расходов на инновационную деятельность, но известно, что «первым иностранным инвестором» в украинскую экономику является Кипр. Понятно, что это не совсем «западные» деньги. В лучшем случае — российские, но есть и «свои», «репатриирующиеся» через банки и компании дружественного острова.
Кроме того, результаты отдельных исследований свидетельствуют, что именно российские компании активно поддерживают украинскую научную и инновационную сферы. В частности, «Газпром» приобрел контроль над рядом украинских научно-исследовательских и проектных институтов и обеспечил их заказами на многие годы. Ничего подобного о действиях компаний наших западных партнеров мне, откровенно говоря, неизвестно.
В заключение не могу не согласиться с Д. Королевым, что ничем не сдерживаемая либерализация научно-технической сферы не способствует развитию науки. Согласен и с тем, что государство должно играть более активную роль в научной и инновационной сферах, но методы их поддержки должны быть многообразными. Ограничиваться прямой финансовой поддержкой, на чем делает акцент автор, явно не стоит.
Гораздо более эффективными представляются расширение применения принципов конкурсности и введение различных стимулов для промышленных компаний. Проблема, однако, в том, что не всегда можно предсказать точно реакцию бизнеса на ту или иную новацию в сфере стимулирования.
В стране действует множество законов, регулирующих экономическую деятельность, и неясно, как введение тех или иных льгот будет согласовано с различными законодательными актами и повлияет на работу предприятия в целом. Окажутся ли вводимые стимулы достаточными для инновационной деятельности? Не возникнет ли угроза их использования не по назначению? С этой целью проводят экономические эксперименты, т. е. вводят стимулы, ограничивая их действие каким-либо регионом или временными рамками.
Нужны только понимание нынешним руководством страны основных тенденций глобального экономического развития и готовность к некоторому риску во имя получения необходимых результатов. Украина — не Саудовская Аравия и, как отметил один наш бывший президент, — не Россия и уж точно — не Норвегия. Прожить за счет «сырьевой ренты» не получится. Проблемы украинских металлургических предприятий после введения новых мощностей в этой отрасли в Китае и других азиатских странах будут только усугубляться в ближайшие годы.
Стимулирование развития высоко- и среднетехнологичных секторов промышленности (по классификации ОЭСР) на основе использования инновационных технологий — единственный шанс занять достойное место среди развитых стран мира.
Здесь, безусловно, нельзя упускать из виду то, что украинский рынок относительно небольшой, поэтому интернационализация НИОКР, продвижение инновационной продукции на мировой рынок совместно с традиционными партнерами в этой сфере (а важнейший среди них — Россия), является неоспоримой предпосылкой успеха.