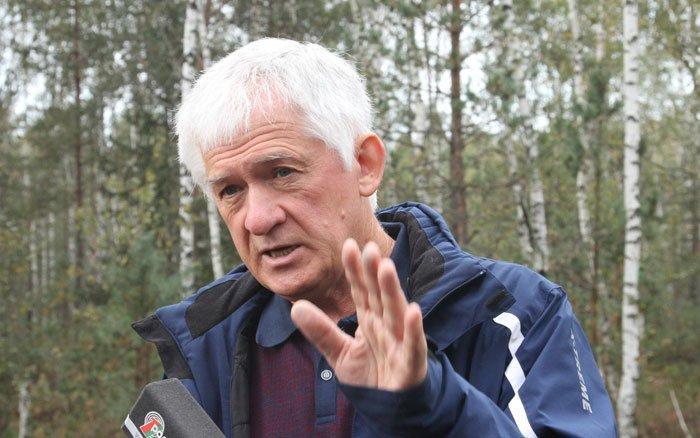В Беларуси разработан проект уникального закона о болотах. Об этом сообщил журналистам заведующий сектором международного сотрудничества Научно-практического центра НАН по биоресурсам, научный руководитель международного проекта «Ветландс» Александр Козулин.
По его словам, если законопроект «Об охране и использовании болот (торфяников)» будет принят, на болотные земли наконец-то обратят внимание. Пока же они у нас, считает ученый, по сути, бесхозные. Их использование регулируется различными документами, но целостного подхода в этом деле на сегодняшний день нет.
В частности, разработанный документ предусматривает комплекс противопожарных мероприятий на болотах. Это и кошение, и управляемое выжигание растительности. В Европе аналогов такого закона нет.На вопрос корреспондента «БЛГ», как именно будут осуществляться так называемые противопожарные палы на болотах, был получен четкий ответ. Такие палы будут проводиться под контролем специалистов в зимнее время, при четко определенных температуре воздуха и уровне снежного покрова.
Разговор с представителями СМИ состоялся в ходе пресс-тура, где были представлены результаты реализации предыдущих этапов проекта «Ветландс». Он финансируется Глобальным экологическим фондом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. В общей сложности планируется восстановить 12 456 га белорусских деградированных и неэффективно осушенных лесных торфяников.
Предисловие
Именно поэтому для презентации были выбраны болота Червень-2 и Галое, расположенные на территории Червенского лесхоза. Дорога из Минска туда заняла определенное время. Александр Козулин использовал его, чтобы представить масштабную картину антропогенного воздействия на белорусские болота с древнейших времен до наших дней. При этом он акцентировал внимание на том, что сегодня в Беларуси осталась не тронутой человеком только треть болотных территорий.
— Низинные болота появились у нас после отхода ледника примерно 10—11 тысяч лет назад, — сообщил болотовед. — Верховые болота возникли позже. Им 5—6 тысяч лет. На Полесье заболоченность достигала 50 %, люди жили практически на островах, на песчаных косах, которые были сформированы течением ледника.
Жили они, по словам Александра Козулина, практически в полной изоляции. Только в XIX веке власти Российской империи обратили внимание на Полесье. В последнюю четверть позапрошлого столетия значительные работы по осушению лесов были проведены экспедицией И. И. Жилинского. Белорусские болота осушались, чтобы получить доступ к древесине. А современные лесомелиоративные системы активно строились с 50-х годов прошлого века.
— В 1950—1970-е годы в Беларуси проводилось широкомасштабное и дорогое осушение болот без особых научных изысканий, — не сдерживал эмоций Александр Васильевич. — В плюсы такого закапывания денег можно записать разве что появление новых населенных пунктов и дорог.
Всего около 300 тыс. гектаров было осушено гидролесными мелиоративными системами. Но ожидаемого интенсивного роста леса не случилось, сообщил ученый. Зато подсушенные участки начали хорошо гореть. Они стали главными очагами пожаров наравне с выработанными торфяниками. Это стало настоящей головной болью для лесоводов страны. В частности, такая проблема остро стояла перед коллективом Червенского лесхоза.

Начало
Болото Червень-2 было осушено лесной мелиорацией в 1970-х годах. Восстановительные работы здесь начались два года назад.
— Два года назад мы закрыли все каналы, — рассказал Александр Козулин. — Но болото восстанавливается не так быстро, как хотелось бы. Почти каждый год сухая весна, а летом засухи. Такое болото выделяет 12 тонн углекислого газа с гектара, но уже появляется сфагнум — значит, выброс СО2 уменьшится. Хотя вереска и багульника здесь еще много — это показатель сухих торфяников.
Впрочем, и багульник, и вереск, и сопутствующая им голубика должны вскоре совсем исчезнуть. Раньше они покрывали всё осушенное болото сплошным слоем. Одна спичка — и страшный пожар неминуем. Теперь здесь всё больше распространяется сфагнум (торфяной мох). Через пару лет он начнет доминировать.
Большое впечатление производят растущие на болотах сосны. Они пережили мелиорацию. Но она не помогла им подняться. Маленькие аккуратные деревца имеют стволы менее 20 сантиметров в диаметре. А им по сто лет и больше! Их в росте уже обгоняют 20—30-летние деревья. Они начали расти на подсушенных плодородных торфяниках. И на первый взгляд подтверждают расчеты советских мелиораторов. Но Александр Козулин уверенно утверждает, что деловой древесины с этих молодых деревьев не получится.
Что касается биоразнообразия на рекультивируемых болотах, ученый отметил, что темпы его восстановления сильно различаются на низинных и верховых болотах. На первых практически полное восстановление естественной болотной флоры и фауны возможно уже в первые три года. На верховых болотах этот процесс длится намного дольше и идет гораздо медленнее.
Мониторинг здесь проводится на всех стадиях реализации проекта. На болоте установлены автоматические датчики регистрации изменения уровня воды, заложены пробные мониторинговые площадки (ботанические и маршрутные для пернатых). Периодичность мониторинга — раз в пять лет.
— По рекультивации болот у нас полное взаимопонимание с Червенским лесхозом, — ответил Александр Козулин на вопрос корреспондента «БЛГ». — Раньше оно сильно горело. Поэтому лесоводы были очень рады использовать предоставившуюся возможность. Лесхоз изначально был заказчиком этого проекта. Мы по нему были плательщиками. Поэтому лесоводы на всех стадиях были вовлечены в реализацию проекта. Благодаря этому у червенских лесоводов стало одной проблемой меньше.
Результаты
А вот на болоте Галое мы увидели совсем другую картину — тут реабилитация началась еще в 2007 году. На это болото вернулась обильная клюква, вереска нигде не видно, вокруг типичные осока и мох. Здесь вольготно чувствуют себя копытные. На верховых болотах до середины осени собирать людям нечего. Поэтому постепенное восстановление редких видов растений, возвращение болотных птиц и фауны практически гарантированы.
— Потрачены в свое время были сумасшедшие деньги на лесную мелиорацию, — снова напомнил о наболевшем Александр Козулин. — С какой целью осушались болота, мы до сих пор не знаем. Выяснили, кто был заказчиком, кто строителем. А цель всей этой масштабной работы непонятна. Проделанный когда-то объем работ по осушению болота впечатляет и сегодня. Поперек всего болота прорыт магистральный канал, в который через каждые 500 метров по обеим сторонам отводили воду каналы второстепенные. Его протяженность более 4 километров. Воду болота он сбрасывает в Волму.
Второстепенные каналы успешно реабилитированы. Натуральный пейзаж практически полностью восстановился. Но магистральный канал почти такой же полноводный, как и раньше. Александр Козулин говорит, что, когда его рыли, пробили водоупорный слой. Поэтому даже если теперь его перекрыть, вода всё равно будет уходить. Только не в Волму, а в песчаное дно канала…
Эпилог
Реабилитация нарушенных болот поможет стабилизировать уровень грунтовых вод, предотвратить минерализацию торфа и высыхание почв и окажет положительное воздействие на реки и луга, прилегающие к проектным территориям. Работы в рамках проекта «Ветландс» будут вестись на четырех территориях. Это нарушенные лесные болота Жада, Острово, Березовик и Городок. Повторное заболачивание — наиболее эффективный метод устойчивого использования нарушенных торфяников, разработанный и апробированный в рамках реализации предыдущих проектов Международной технической помощи ПРООН-ГЭФ.
Кроме того, проект «Ветландс» внесет вклад в усовершенствование природоохранного законодательства, поскольку способствовал разработке Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь проекта закона «Об охране и использовании болот (торфяников)». В настоящее время этот законопроект уже вынесен на общественное обсуждение.