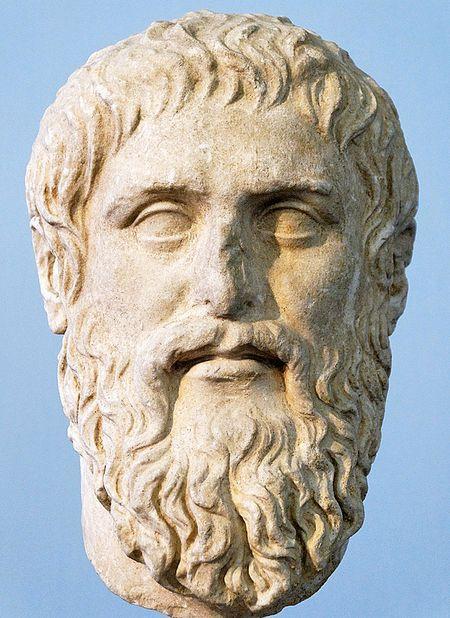Великий древнегреческий мыслитель о происхождении тирании, демократии, олигархии и типах власти
«В первые дни и в первое время своего правления тиран улыбается всем, кто бы ему ни встретился, а о себе утверждает, что он вовсе не тиран; он дает много обещаний частным лицам и обществу; он освобождает людей от долгов и раздает землю народу и приближенным к нему людям. Так демонстрирует он, что милостив и ласков. Но тирану необходимо непрерывно вести войну, чтобы простой народ испытывал потребность в вожде. Поскольку постоянная война возбуждает против тирана всеобщую ненависть и поскольку граждане, которые когда-то способствовали его подъему начинают со временем мужественно осуждать новейшие события и то, к чему эти события приводят, — этот тиран, если он хочет удержать власть, должен последовательно убивать своих критиков, пока не останется у него никого ни из друзей, ни из врагов, кто был бы хоть на что-нибудь способен».
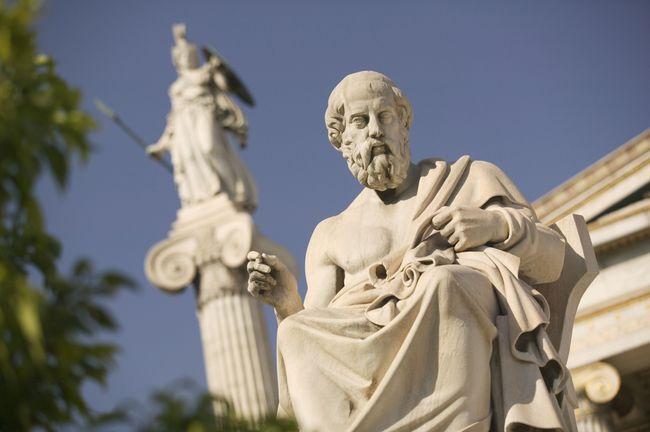
Чистая правда, которая поражает своей точностью и глубиной обобщения. Но кому же принадлежат процитированные выше строки? Это написано 2350 лет назад (!) их автор — не кто-то из признанных в мире историков, социологов или философов ХХ века (таких как Ханна Арендт, Питирим Сорокин, Раймон Арон или Карл Ясперс) перед глазами этого автора не стоял жуткий опыт Чингисхана, Ивана Грозного, Сталина, Гитлера, Муссолини, Пол Пота и подобных им. Великий Платон, величайший из мыслителей Древней Греции, обладал уникальным даром обобщать, на первый взгляд, «отдельные» события, факты и явления и выстраивать на их основе глубинную причинно-следственную цепь. Поэтому 8-й раздел его знаменитого диалога «Государство» (Платон работал над этим произведением уже на склоне лет, примерно в 365—350 годах до нашей эры), откуда и взяты приведенные строки, является и по сей день во многом непревзойденным образцом не только философского, но и политического анализа.
Известно, что Платон не имел в своем распоряжении, с позволения сказать, «свершений» тиранов Нового и Новейшего времени. Философ умер в 347 году до н.э. (Заметим, что Александру Македонскому было тогда 9 лет). Но это не помешало выдающемуся мыслителю в диалоге «Государство», где «модератором», «солистом», интеллектуальным двигателем диалога, как очень часто у Платона, является его Учитель, гениальный Сократ, очень четко изложить свои мысли относительно зарождения, укрепления, преступлений и падения самых разных диктатур. Кстати, поскольку мы знаем, что Сократ сам не зафиксировал письменно свои мысли, а учил только устно, то остается открытым интереснейший вопрос — насколько «Сократ» диалога «Государство» излагает действительно свои, аутентичные мысли, может, эти мысли являются размышлениями скорее самого Платона? Здесь крайне непросто вынести какой-то определенный вердикт.
Стоит еще добавить, что и до Платона, и в его времена Древняя Греция, откровенно говоря, тоже знала немало тиранов (среди них были и мудрые, без кавычек, правители, но достаточно жесткие и властолюбивые, такие как Периандр Коринфский, и садисты вроде Фалариса, властителя Акраганта, который сжигал своих противников в сделанной из меди статуе гигантского быка, и такие «отцы народа», как Писистрат, Клисфен, Гиерон… (кровь никогда не останавливала их). Так что Платону, работая над «Государством», было что изучать и обобщать.
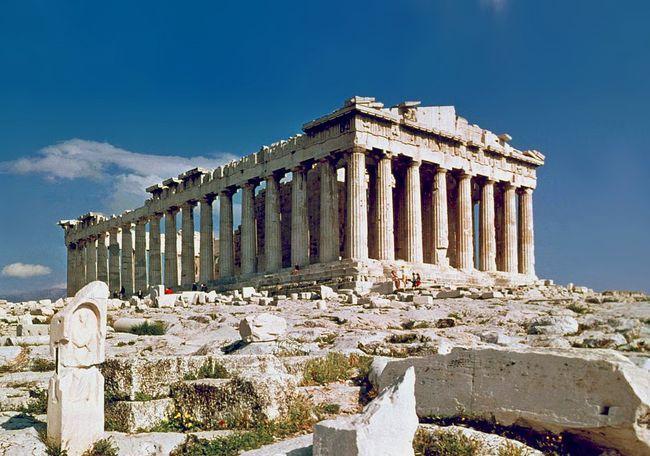
А теперь обратимся непосредственно к мыслям великого философа (из 8-й главы «Государства», возможно, наиболее сильной и антитираничной). Вот что пишет Платон: «Ясно, что когда появляется тиран, он растет именно как ставленник народа» (эту и последующие мысли, напомним, Платон вложил в уста Сократа). «С чего начинается превращение такого ставленника в тирана?.. Говорят, что кто хоть раз попробовал мягкое мясо человека — тот неизбежно станет волком. Разве не то же самое происходит и с представителем народа? Имея в руках очень послушный народ, разве он воздержится от крови своих соотечественников? Наоборот, как это обычно бывает, он станет привлекать их к суду по несправедливым обвинениям и опозорит себя, отбирая у людей жизнь, собственными нечестивыми устами и языком он будет смаковать убийство родственников».
И далее Платон (Сократ?) Утверждает: «Наказывая изгнанием и осуждая на страшную казнь, он (тиран. — И.С.) между тем будет обещать отмену задолженности и передел земли. После всего этого разве не ждет такого человека неизбежно одно из двух: либо погибнуть от руки своих врагов, либо же окончательно превратиться из человека в волка? И еще: он тот, кто поднимает восстание против людей, которые имеют собственность! Если он потерпел неудачу, был приговорен к изгнанию, а затем вернулся — бросая вызов своим врагам — то возвращается он уже как совершенный тиран. Если же те, кто его подверг изгнанию, будут не способны его сбросить снова и казнить, очернив в глазах граждан, то они замышляют его тайно убить. Отсюда это общеизвестное требование со стороны тиранов: как только они достигнут такой власти, они требуют, чтобы народ назначил им охранников, чтобы народный заступник был в безопасности. И народ, конечно, дает их ему, потому что дорожит его жизнью, а за себя пока (!. — И.С.) вполне спокоен. А если такой человек имеет большие деньги — то считает, что вместе с деньгами имеет основания ненавидеть и презирать народ».
И далее Платон развивает свои рассуждения: «Рассмотрим теперь, в чем счастье этого человека и того государства, где появляется подобного рода смертный. Сначала тиран представляет себя как милостивого ко всем и кроткого; а потом тирану придется зорко следить за мужественными, благородными, за теми, кто умен и богат. Поистине велико «счастье» тирана: он невольно является врагом всех этих людей и устраивает против них козни, пока не очистит от них государство. Странное очищение, если правду сказать! Оно противоположно тому, что применяют врачи: те удаляют из тела все худшее, оставляя лучшее, здесь же все происходит наоборот… Пожалуй, для тирана это необходимо, если он хочет сохранить власть.
О его блаженстве говорит и выбор, стоящий перед ним: или существовать вместе с толпой негодяев, к тому же тех, которые его ненавидят, или попрощаться с жизнью. И чем больше он становится ненавистным гражданам после этих своих действий, тем больше нужно ему преданных охранников. А кто ему верен? Откуда их взять? Их соберется сколько угодно, стоит только заплатить. Но, клянусь, часто мне кажется, что мы снова говорим о каких-то паразитах, о чужеземном отрепье!»
По мнению Платона, «блаженным же существом можно назвать тирана, если подобные люди — его верные друзья, а предыдущих, настоящих, он погубил! Эти его сподвижники будут им восхищаться, его общество составят эти новые граждане, тогда как люди порядочные будут ненавидеть и избегать его.
Есть блестящие трагические поэты, например Эврипид, которые признают «мудрость» правления тиранов. Но пусть они и нас, и всех тех, кто разделяет наши взгляды на устройство общества, простят, если мы не примем их в наше государство именно потому, что они так славят тираническую власть. Обходя другие государства, собирая огромные толпы, подрядив исполнителей с прекрасными, сильными, впечатляющими голосами, они привлекают граждан к тирании и демократии» (обращает на себя внимание, что Платон объединяет в единое целое обе эти формы государственного устройства. Более того, дальше он доказывает, что тирания растет и возникает именно из демократии. В этом стоит разобраться — это будет темой нашего отдельного дальнейшего разговора. — И.С.).
«Более того, — резюмирует Платон, — такие поэты и певцы получат вознаграждение и им дается слава наибольшей степени, и это естественно, со стороны тиранов, а на втором месте — от демократии. Но чем выше карабкаются они к вершинам государственной власти, тем слабее становится уважение к ним, якобы ему, этому уважению, не хватает дыхания идти дальше».
«Но мы с тобой, — пишет философ, — сейчас несколько отклонились от темы, давай вернемся снова к этому войску тирана, такому многочисленному, блестящему, разнообразному, которое всегда меняет свой состав, и посмотрим, на какие средства, собственно, оно содержится. Поймем: если народ породил тирана, то народу и суждено кормить его и его приспешников! Это тирану совершенно необходимо. Вот тогда народ поймет, клянусь Зевсом, какую тварь он породил, да еще и заботливо вырастил. Он убедится, насколько мощными являются те, кого он пытается прогнать своими слабыми силами. Как говорит пословица, «избегая дыма, попадешь в огонь»; так и народ из подчинения свободным людям попадает в зависимость от деспотичной власти и свою непомерную свободу меняет на наиболее тяжелое и горькое рабство — рабство у рабов. Это именно так и происходит».
Стоит не забывать, что развитая Платоном классификация ложных, опасных, по меньшей мере, негативных форм государства, так же, как и его анализ происхождения и смертельных форм тирании, не является умозрительной конструкцией. В ее основе лежат вполне реальные наблюдения гениального философа за разновидностями государственного устройства, которые существовали в разных частях Древней Греции в тех или иных греческих полисах (городах-государствах). Только выдающаяся политическая наблюдательность и большая осведомленность, которую Платон получил за время пребывания в многочисленных государствах Греции и за ее пределами, могли дать мыслителю возможность так глубоко и проникновенно охарактеризовать отрицательные стороны различных типов государственного устройства и управления.
А наш разговор о государстве глазами Платона отнюдь не закончен. Нам еще предстоит рассмотреть, какие именно типы государственного устройства выделял философ, почему он считал, что тирания часто возникает из демократии, и какое устройство государства Платон считал идеальным.
Платон, как известно, выделял следующие основные типы государства (понимая при этом, что «границы между разными формами государств текучи, часто условны, неустойчивы): 1) аристократический («власть принадлежит лучшим, избранным, элитным людям» — именно такому государству великий философ отдавал предпочтение перед всеми остальными) 2) «тимократия» — государственный строй, основанный на неограниченном честолюбии, фактически часто на тщеславии; 3) «олигархия» — государственное устройство, при котором власть монопольно принадлежит небольшой кучке богатых людей и приближенных к ним лицам; 4) «демократия» — народовластие; вот какое очень интересное определение дает ей Платон, несомненно, сын своего времени: «На мой взгляд, она осуществляется тогда, когда малоимущие люди, одержав победу, некоторых из своих противников уничтожат, других отправят в изгнание, а остальные уравняют в гражданских правах и при замещении государственных должностей, которое при демократическом строе происходит в основном путем жеребьевки («на свободных выборах» — сказали бы сейчас) 5) «тирания» — взгляд Платона на этот государственный строй нам знаком.
Причем, как считал древнегреческий философ, все эти разновидности государств последовательно, совсем не стихийно, а закономерно сменяют друг друга; закономерно потому, что их развитие и дальнейшее падение является следствием глубокого, внутрисистемного кризиса того или иного политического строя. Так, по Платону, системный кризис олигархического государства превращает его в формирование с теми или иными демократическими признакам; в свою очередь, подобный же кризис демократического государства с необходимостью (если такой кризис неизлечим) вызывает возникновение государства тиранического — именно из демократии, по Платону, довольно часто возникает тирания. Как и почему?
Прежде чем рассмотреть этот вопрос, ознакомимся с глубинными пороками олигархического государства, которые (пороки), по мнению философа, обрекают такое государство или на распад, или на эволюцию в сторону государства демократического. О чем, собственно, идет речь? «Главный порок олигархического строя — это та норма, по которой он основан», — указывает Платон. — Подумай сам: если кормчими на судах назначать в соответствии с имущественным цензом (а именно так, доказывает мыслитель, и происходит при олигархическом строе. — И.С.), а бедного человека, пусть даже он более способен к управлению кораблем, не допускать к делу — такой подход к искусству вождения судов является губительным. Это в полной мере относится и к государственным делам, ведь управлять государством невероятно сложно, а важность этого дела огромна. Вот это уже является первым значительным пороком олигархии».
Первым, но не единственным пороком, подчеркивает Платон. «Подобного рода государство неизбежно не будет единым, а в нем будет как бы два государства: одно — для бедных, другое — для богатых. Хотя они и будут жить на той же земле, однако станут вечно враждовать друг с другом». (Этому предостережению уже 2350 лет; услышано ли оно? — И.С.).
И далее: «Но нехорошо также и то, что они, похоже, будут не в состоянии вести какую бы то ни было войну, поскольку неизбежно произойдет то, что олигархи, дав оружие в руки толпы, боялись бы этой толпы даже больше, чем врага, или же, отказавшись от вооружения толпы, проявили бы себя настоящими олигархами даже в военном деле. К тому же они не захотели бы тратиться на войну, поскольку держатся за деньги (впрочем, за время, прошедшие со времен Платона, олигархи вполне овладели практикой наживаться на войне. — И.С.).
А вывод следующий: «Итак, понятно, что где бы ты ни увидел бедняков в государстве, там скрываются и те, кто ворует, срезает кошельки, оскверняет храмы и делает много других недобрых дел». Более того, «в олигархических государствах почти все бедны, за исключением правителей». Итак, олигархический строй, власть в котором основана на имущественном цензе, по мнению Платона, несправедлив.
Так, может, демократия является тем общественным строем, который исправляет недостатки строя олигархического? Прежде всего, отмечает Платон, люди при демократическом строе «свободны: в государстве появляется полная свобода и откровенность, возможность делать то, что хочешь. А где все это разрешается, там, очевидно, каждый устроит себе жизнь по вкусу. Я думаю, что при таком государственном строе люди будут очень разными. Словно ткань, пронизанная всеми цветами, так и этот строй, пронизанный самыми разнообразными нравами, может показаться действительно прекрасным» (Заметим, Платон акцентирует внимание на разных «моделях» демократии — речь не идет об унификации. — И.С.).
«Наверное, — продолжает Платон, — если у кого-то появится желание основать совсем новое государство, ему нужно будет поехать туда, где есть демократия, и уже там, словно попав на рынок, где торгуют разными формами правления, выбрать ту, которая ему нравится … в демократическом государстве нет никакой необходимости участвовать в управлении, даже если ты на это и способен (парадоксальная мысль! — И.С.), не обязательно и подчиняться, если ты этого не хочешь, или воевать, когда другие воюют, или соблюдать, подобно другим, условия мира, если ты мира не хочешь …» (Вот тут и напрашивается сакраментальное: «Демократия — это не вседозволенность. — И.С.).
Но это все — не самые большие пороки демократического устройства. Более значение имеет то, что демократический строй «свысока нисколько не интересуется тем, кто от какого рода занятий переходит к государственной деятельности. Человек становится почитаем, если только этот человек проявил свою благосклонность к толпе и умение говорить с ней». А вот это уже является системной болезнью, и здесь слова Платона звучат неожиданно актуально. «Эти и подобные им черты, — отмечает философ, — присущи демократии — строю, не имеющему надлежащего управления, но приятному и разнообразному. При этом строе существует своеобразное равенство, которое уравнивает равных и неравных».
«Акрополь человеческих душ пуст» — так определяет Платон сущность глубинного кризиса демократии. А потом мыслитель обобщает: «Подобно тому, как из олигархии возникла демократия, похожим образом из демократии создается тирания. Благом, выдвинутым как конечная цель, — за что и установилась олигархия — было обогащение, не так ли? А безудержное стремление к обогащению и пренебрежение всем, кроме наживы, погубили олигархию. Таким же образом и то, что демократия определяет как высшее благо, и то, чего она непрестанно добивается, именно это ее и разрушает. Ты спросишь, что это? Это — свобода!».
«В демократическом государстве, — наблюдает Платон, — только и слышишь, как прекрасна свобода и только в таком государстве стоит жить тому, кто свободен по своей природе. Но такое неограниченное стремление к одному и пренебрежение остальными важных вещами искажает этот строй и готовит потребность в тирании. Потому что когда во главе государства, где демократический строй и сильная жажда свободы, приходится стать плохим виноделам, государство это сверх меры подвергается опьянению свободой в неразбавленном виде, а своих должностных лиц карает, если те не достаточно снисходительны и не предоставляют всем полной свободы, и обвиняет их в отвратительном олигархическому уклоне. Граждан, послушных к власти, там порицают как жалких добровольных рабов, однако правителей, похожих на подвластных, и подвластных, похожих на правителей, там восхваляют и чтят как в частной, так и в общественной жизни».
«При таком устройстве, — указывает Платон, — учитель боится школьников и заискивает перед ними, а школьники не во что не ставят своих учителей и наставников. Вообще молодые начинают подражать взрослым и соревноваться с ними в рассуждениях и делах, а старшие, приспосабливаясь к молодым и пресмыкаются перед ними, ежесекундно весело шутят, чтоб не показаться неприятными и властными». И главное — вступает в действие закон толпы и Вождя.
Каким же, по мнению Платона, должно быть идеальное государство интеллектуальной аристократии — государство лучших? И почему таким государством должны управлять философы? Это — тема нашей заключительной беседы.
Когда углубляешься в концепцию духовно-аристократического государства философов, как она представлена у Платона (наилучший из разновидностей государственного строя, по его мнению), то поневоле удивляешься непостижимому сочетанию в его размышлениях уникальных прозрений, важных и для нашего времени (VІ раздел диалога «Государство», откуда в основном взяты идеи Платона, создавался, напомним, в 365 — 350 годах до нашей эры!), и в то же время явной утопичности конструкций философа. Все в одном! Впрочем, предоставим слово самому Платону.
Почему же, на взгляд автора диалога «Государство», именно философам, даже не обязательно по профессиональному образованию, а, скорее, по мировоззрению, по системе ценностей, должна принадлежать власть? Потому что они являются аристократами духа, которым одинаково отвратительны и олигархическое господство денег, и «демократия толпы», и, безусловно, тирания одного властелина, который впоследствии закономерно возникает? Конечно, именно поэтому, но дело даже не только в этом. Важнее, в конечном итоге, другое. Кто такой философ в понимании Платона?
Это человек, который постигает самую глубинную, скрытую суть вещей, которая «способна открыть то, что является вечно тождественным самому себе». Напротив, тот, кто в результате своей духовной слепоты «блуждает среди огромного количества разнообразных вещей и идей — тот уже не философ». Философов отличает от остальных людей страстное стремление к знанию, «которое открывает им извечно сущее, то, чего не заменяет бурное бытие, которое постоянно возникает и уничтожается». Этого бытия философы хотят «в целом, не теряя, насколько это от них зависит, ни одной его части, ни малой, ни большой, ни более, ни менее ценной». И что является очень существенным — философам присуща «правдивость, решительное непринятие любой неправды, ненависть к ней и любовь к истине».
Исключительными являются и моральные качества настоящего философа: такой человек «и смерть не будет считать чем-то ужасным», она в любом случае «не может стать нехорошей или несправедливой». Философ также не останавливается на большой совокупности отдельных явлений, «которые лишь кажутся нам такими, что существуют, но непрерывно идет дальше, и его страсть не утихает до тех пор, пока он не коснется самой сути каждой вещи».
На беду, тот, кто избежал опасностей ошибочного воспитания и приблизился к природе истинного философа, обычно не снискивает признания при искаженном государственном строе. Потому что «толпе не присуще быть философом» (! — И.С.). Поэтому не удивительно, что все те, кто стал настоящим философом, неминуемо будут вызывать или безразличие, или и ненависть как толпы, так и отдельных личностей, которые, «общаясь с толпой, стремятся ей угодить».
И все же, невзирая на это, Платон убежден: как самых лучших и «самых скрупулезных часовых» (это высказывание мыслитель повторяет неоднократно) государства в образцовом, идеальном случае следует ставить именно философов. Бесспорно, достойным этого назначения будет, очевидно, небольшое количество граждан — «аристократов духа». Это те, у кого все качества, необходимые для наилучшего «часового» и правителя, взятые вместе, в совокупности. Здесь для определения пригодности человека для того, чем ему надлежит заниматься, необходимыми являются наивысшие, наистрожайшие критерии, ведь, как убежден Платон, «ничего несовершенного не может быть мерой чего-нибудь». Следовательно, безразличное отношение к тому, кого проверяют и испытывают, полностью недопустимо в этом случае.

Если, пишет мыслитель в VІІ разделе «Государства», еще в детстве преодолеть природные ошибочные наклонности человека, то, освободившись от них, душа будет способна обратиться к истине. Однако если для управления государством являются непригодными люди необразованные и далекие от истины, то, с другой стороны, и те, кто всю жизнь совершенствовал себя, добровольно не будут вмешиваться в общественную жизнь. Поэтому в совершенном государстве людям, которые осуществили духовное восхождение и поняли истину, не будет разрешено остановиться на покоренных высотах. Потому что закон совершенного государства ставит целью не «благоденствие» или «блаженство» какой-то одной части населения, а имеет в виду все государство в целом (отсюда возникла потом концепция «общего блага», которую на протяжении ХVІІ — ХІХ веков разрабатывали, оттачивали и пропагандировали, далеко не всегда искренне, такие разные люди, как французские мыслители эпохи Просвещения, украинские и польские философы, «отцы-основатели» США, а, с другой стороны, не удивляйтесь, Петр І и Екатерина ІІ, конечно, лицемерным способом!).
Вообще, стоит, хотя бы бегло, вспомнить о принципиальном отличии системы мышления Платона (да и многих других древнегреческих философов), с одной стороны, и индивидуализма западноевропейского мышления Нового времени. Дело в том, что Платон, его образованные соотечественники и современники были убеждены: свободный человек в обществе является неотделимым от государственного целого, к которому он принадлежит, и именно в зависимости от этой связи и по его образцу должны решаться основные проблемы общественной жизни. Эта концепция положена в основу диалога «Государство».
Бесспорно, Платон и сам осознавал определенную (а часто — и явно ощутимую) утопичность предлагаемой им модели аристократического государства, управляемого философами (не имущественной аристократией «денежных мешков»!). Это не является, понимал он, отображением любого государства, греческого или другого, которое бы существовало в реальности. Поэтому «Государство» Платона, можно сказать, в какой-то степени принадлежит к жанру философско-литературных утопий и является началом интереснейшей интеллектуальной цепи (вплоть до Томаса Мора, Томмазо Кампанеллы и даже социалистов-утопистов ХІХ века включительно). Эта утопия Платона, и это полезно иметь в виду, имеет разные важные составляющие.
Идет речь, во-первых, об острокритическом элементе его произведения. Потому что следует четко представить себе, какие черты современного государства должны быть устранены, от чего необходимо отказаться, что надлежит изменить. Во-вторых, об элементе конструктивном, наполненном позитивным содержанием. Здесь идет речь о том, чего еще нет, но что, по мнению автора утопии, непременно должно возникнуть в будущем. И, наконец, в-третьих, из-за того, что утопия изменяет существующее на вообразимое, то есть на то, чего не существует, что возникло в фантазии, то в каждой утопии имеется элемент фантастики. Но дело в том, что пусть как бы отличались образ, форма данного в утопии совершенного общества — все это не может быть создано лишь на основе «чистого воображения», а неминуемо отражает реальную жизнь.
Совершенное по своему укладу государство, по Платону, имеет четыре главных добродетели: 1) Мудрость — не какое-то техническое умение или обычное знание, а наивысшее знание, то есть способность дать хороший совет по общегосударственным вопросам в целом, о способе решения внутренних дел и о построении внешних отношений. Без сомнения, и в современной Украине «статусных» советчиков и экспертов хватает, но как же относительно «ненависти к неправде», о которой не раз вспоминал Платон? 2) Мужество. Платон объясняет: подобно тому, как вовсе не обязательно, чтобы мудрыми были все, без исключения, члены общества для того, чтобы государство могло быть мудрым в целом — так и, чтобы охарактеризовать государство как таковое, что имеет добродетель мужества, достаточно хотя бы некоторой части граждан, которые способны постоянно хранить в себе правильное и в соответствии с законом представление о том, что является страшным, а что — нет. 3) Рассудительность. В отличие от мудрости и от мужества, рассудительность является чертой, присущей уже не какому-то конкретному классу общества, а принадлежит всем членам совершенного государства. Там, где есть рассудительность, все члены общества признают действующий в совершенном государстве закон и имеющееся в этом государстве правительство, которое сдерживает ошибочные наклонности отдельных личностей. И, наконец, 4) Справедливость, которая базируется на упомянутой рассудительности. Как раз благодаря справедливости каждое сословие (или класс) в государстве, равно как и каждый отдельный гражданин, который наделен тем или иным определенным талантом, получает для выполнения и осуществления свое особенное дело. «Мы установили, — провозглашает Платон, — что каждый отдельный человек должен выполнять что-то одно из того, что нужно государству, и к тому же как раз то, к чему он по своим природными наклонностям является наиболее пригодным».
Здесь возникает тема не только рационального разделения труда (свыше 2000 лет спустя после Платона наш Григорий Сковорода, который прекрасно знал его наследие, выдвинул идею «сродної праці»), но и рассудительной, продуманной организации экономики вообще. Как считал Платон, потребности граждан, которые образуют общество, являются очень разнообразными, но в то же время возможность каждого отдельного члена общества удовлетворять эти потребности является ограниченной. Именно поэтому образуется объективная необходимость для возникновения «сообщества», «сожительства» или же «полиса» (преобладающего в Древней Греции города-государства, отсюда термин «политика»), где, как убежден Платон, «каждый человек привлекает то одно, то другое для удовлетворения той или иной потребности. Чувствуя потребность во многом, люди собираются вместе, объединяются, чтобы проживать рядом друг с другом и оказывать друг другу помощь: такое совместное проживание и получает у нас название «государство». Базовыми элементами такого государства, кроме экономических, являются также, по Платону, и мировоззренческие: общие ценности, законы, уважаемые всеми гражданами, и всеобщее согласие в обществе.
***
За почти 2500 лет, которые миновали со времени создания Платоном диалога «Государство», человечество не прекращало — когда с большей интенсивностью и страстностью, когда более сдержанно — вести дискуссии о том, чем является государство, как сделать его подотчетным и подконтрольным гражданам, а не ненасытным Молохом, который не может удовлетвориться даже миллионными жертвами несчастных. Словом, идет речь о том, как сделать государство действительно достоянием современной гуманистической цивилизации, без чего немыслим прогресс человечества — пусть бы какими поражающими были технические достижения. Бесспорно, эта задача еще далеко не решена, однако можно утверждать, что наследие Платона будет способствовать, возможно, не в скором будущем, возникновению такого государства.